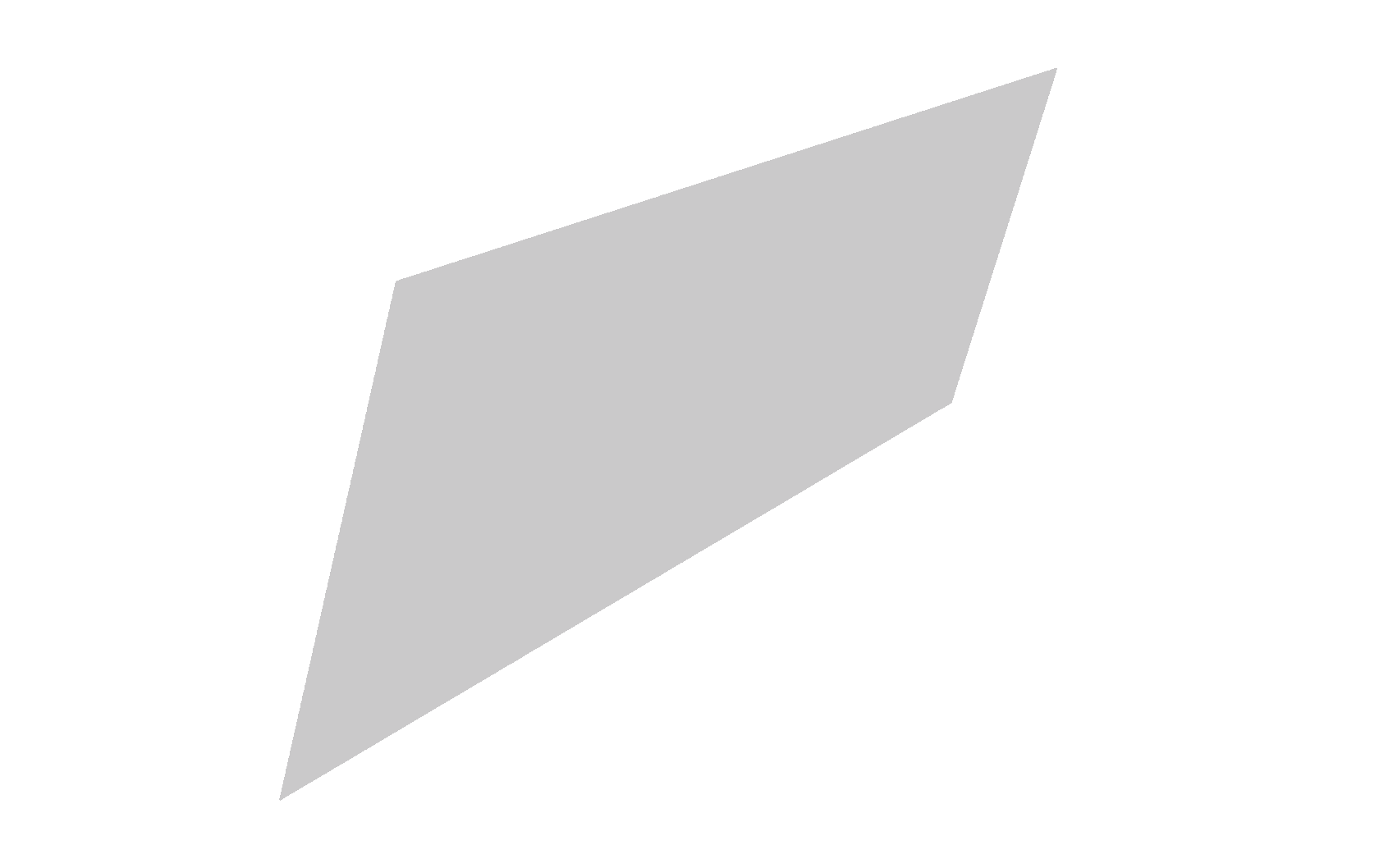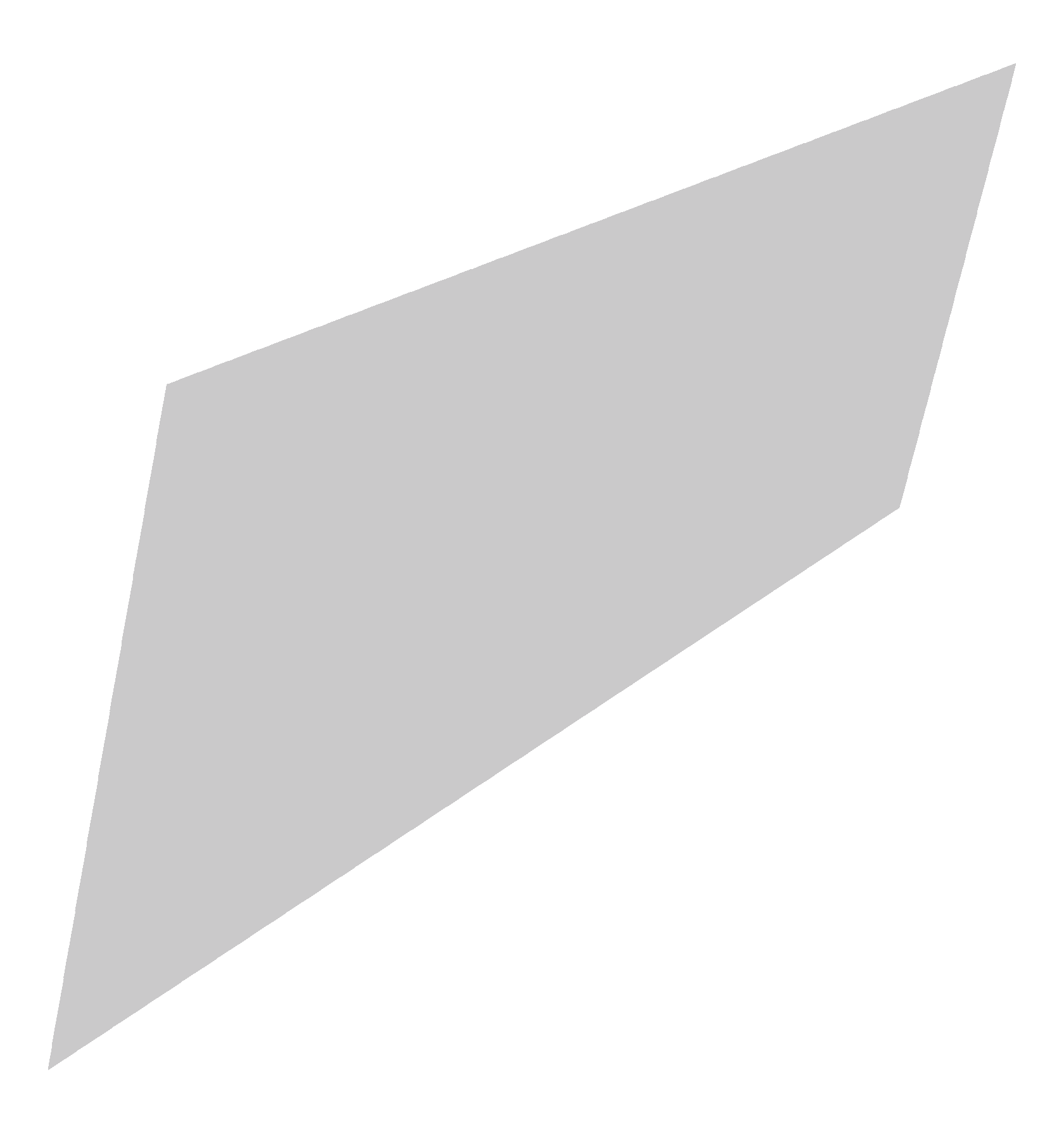Петр Беленок
1938–1991

Одновременно с рождением европейского фотореализма и американского гиперреализма Петр Беленок начал собственные эксперименты по созданию направления, которое он называл «паническим реализмом». На его монохромных работах изображено непостижимое — вселенские катастрофы, в которых возникают и пропадают человеческие фигурки, скрученные неведомым вихрем. Современники всегда отмечали «европейскость» художника — он знал французский язык, читал на нем, увлекался философией экзистенциализма, слушал авангардную музыку. Есть свидетельства того, что показы своих работ в мастерской он проводил под музыку Кшиштофа Пендерецкого. В этом Петр Беленок продолжал развивать и трансформировать идею «светомузыки», разработанную в начале ХХ века музыкантом и философом Александром Скрябиным. Сам художник говорил, что наблюдает мир из нейтральной позиции в космосе. До сих пор о работах Петра Беленка не утихают споры — было ли это предчувствие будущего или ирония по отношению к настоящему.

Владимир Алейников
поэт, писатель и художник
Друг Петра Беленка поэт, писатель и художник Владимир Алейников пишет о невероятном даре предвидения, которым обладал художник: «Петр Беленок вырос в украинском селе Корогод, в пятнадцати километрах от Чернобыля. Но задолго до Чернобыльской аварии мастерскую Беленка на Абельмановской улице, в сыром и тёмном подвале, заполняли оргалиты, картоны и листы ватманской бумаги всевозможных форматов, от небольших до огромных (он всегда тяготел к монументальности), с экспрессивной живописью, в которой выражено было — предчувствие Чернобыльской катастрофы. Без всякой ложной мистики, благодаря чутью, благодаря прозрениям своим, не только предсказывал Беленок, что произойдёт, но и взывал ко всем живущим: чувствую беду! На его работах происходило непоправимое. Трансформировалась, распадалась материя. Метались растерянные люди. Налетавшие вихри вздымали их вверх, растворяли в пространстве. Видоизменялся привычный пейзаж. В сочетании с музыкой это производило впечатление странного, пророческого фильма, неповторимой, поразительней по воздействию хроники, устремлённой к нам, живущим в своём, вроде бы относительно спокойном, времени и зафиксировавшей — ещё тогда — будущее…»

Андрей Ерофеев
искусствовед
С другой стороны Андрей Ерофеев предлагает посмотреть на работы Беленка под иным углом: «Термин «панический реализм», которым сам художник окрестил свой метод, связан с сюжетной стороной его картин. Точнее, с тем устойчивым сюжетным толкованием его произведений, которое у нас утвердилось и даже считается самоочевидным. Оно предлагает зрителю увидеть в картинах Беленка грандиозные катастрофы, космических масштабов торнадо, смерчи, коллапсы сверхновых звезд и т.д. Но возможен, однако, иной взгляд на творения Беленка. Взгляд иного типа — не тотально серьезный, а иронический. Он, очевидно, был ближе художнику, на что указывает целый ряд факторов.
Во-первых, забавное самоназвание с эпитетом «панический», которое звучало для современников как игровой (не без издевки) апокрифический дублер реализма «социалистического». Однако в первую очередь ироническая игра заключена в самой конструкции визуального образа. Строго говоря, в картинах Беленка нет никаких изображений катаклизмов. Приглядевшись, зритель понимает, что принятые им за рисунки взрывов потеки и пятна белой краски являются просто-напросто мазками, ударами кисти и набрызгами из пульверизатора. То есть это образцы абстрактного искусства, активного, жестуального, каким в те годы занимались в Ленинграде Михаил Кулаков и Евгений Михнов-Войтенко. Беленок соединил абстракцию Кулакова с вырезками из модных журналов. Это были цветные фото каких-то анонимных граждан.
Подобную работу правильнее называть не картиной, а коллажем, ибо в отличие от живописного полотна коллаж есть гетерогенная система, а не «картина мира». Он построен на механическом соединении на планшете-плоскости неоднородных элементов, каждый из которых, обретая новое звучание в коллажной композиции, сохраняет исходную форму, но теряет ее исходный смысл. Содержание коллажа, рождается не оригинальностью рисунка, а актом неожиданного сопоставления элементов. Зритель самостоятельно додумывает контент, который сам автор в работу не закладывал, но к которому он косвенно подталкивал зрителя.
Во-первых, забавное самоназвание с эпитетом «панический», которое звучало для современников как игровой (не без издевки) апокрифический дублер реализма «социалистического». Однако в первую очередь ироническая игра заключена в самой конструкции визуального образа. Строго говоря, в картинах Беленка нет никаких изображений катаклизмов. Приглядевшись, зритель понимает, что принятые им за рисунки взрывов потеки и пятна белой краски являются просто-напросто мазками, ударами кисти и набрызгами из пульверизатора. То есть это образцы абстрактного искусства, активного, жестуального, каким в те годы занимались в Ленинграде Михаил Кулаков и Евгений Михнов-Войтенко. Беленок соединил абстракцию Кулакова с вырезками из модных журналов. Это были цветные фото каких-то анонимных граждан.
Подобную работу правильнее называть не картиной, а коллажем, ибо в отличие от живописного полотна коллаж есть гетерогенная система, а не «картина мира». Он построен на механическом соединении на планшете-плоскости неоднородных элементов, каждый из которых, обретая новое звучание в коллажной композиции, сохраняет исходную форму, но теряет ее исходный смысл. Содержание коллажа, рождается не оригинальностью рисунка, а актом неожиданного сопоставления элементов. Зритель самостоятельно додумывает контент, который сам автор в работу не закладывал, но к которому он косвенно подталкивал зрителя.